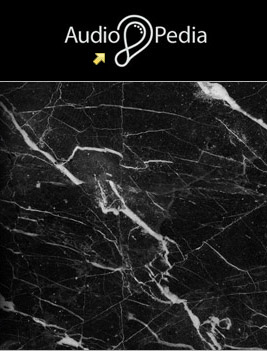Почва и судьба Анатолия Якобсона
Александр Черкасов, 04/05/08 О правозащитниках Просветительство Статьи правозащитников
"Удар был нанесён в чувствительное место: люди чести, не склонные поддаваться угрозам в свой адрес, ещё менее склонны быть свободными за чужой счёт. Следователь КГБ назвал и имя заложника: Анатолий Александрович Якобсон..."
Тридцатого апреля стоило бы отметить всамделишний "день печати": исполняется сорок лет со дня выхода первого номера "Хроники текущих событий". Выходивший пятнадцать лет неподцензурный бюллетень по точности и достоверности мог бы послужить образцом для современных масс-медиа.
Впрочем, об истории "Хроники" можно было немало узнать в последние дни — "разворот" и пресс-конференция в "Новой газете", "круглый стол" и опять-таки пресс-конференция в "Новом времени". Слышны голоса редакторов "Хроники" — Натальи Горбаневской и Сергея Ковалёва.
Но я хочу сказать несколько слов об одном из тех, кого сегодня нет. 30 апреля 1968 года, в день выхода первого выпуска "Хроники", ему исполнилось тридцать три года. Человек, блиставший на любом поприще, — учитель литературы в столичной 2-й математической школе, литературовед, переводчик. После ареста в декабре 1969-го Натальи Горбаневской он занял её место и с начала 1970-го стал "выпускающим редактором" "Хроники". Два года спустя, в начале 1972-го, стал отходить от "хроникальных" дел. А в конце года оказался в положении заложника.
Комитет государственной безопасности дал знать, что если выпуск "Хроники" не будет прекращен, то следующим арестован будет не кто-то из "хроникёров", но человек, к изданию уже не причастный. Удар был нанесён в чувствительное место: люди чести, не склонные поддаваться угрозам в свой адрес, ещё менее склонны быть свободными за чужой счёт. Следователь КГБ назвал и имя заложника: Анатолий Александрович Якобсон.
В начале 1973 года его судьбу и судьбу "Хроники" решали без его участия. Собрался самый тесный круг...
Вот что писал об Анатолии Якобсоне сменивший его на посту редактора "Хроники" Сергей Адамович Ковалёв:
"Мне никогда в жизни не приходилось наблюдать извержение вулкана, но если когда-нибудь придется, то, подозреваю, не увижу ничего нового. Тошка все время жил в состоянии какого-то непрерывного процесса взрывного саморасточения — таланта, обаяния, блестящего (хотя не всегда пригодного для салонов) остроумия, любви к друзьям, женщинам, стихам. Я не знаю другого человека, который настолько широко знал и глубоко чувствовал поэзию, как Якобсон. Это же относилось и к истории, — в особенности — к русской поэзии и русской истории.
В них он просто жил, столь же осязаемо, как иные живут в своем материальном окружении. Сказанное не означает, что Якобсон был исключительно человеком эмоций. ...его мысль литературоведа и историка, всегда была ясной, сильной и неотразимой, как удар. Якобсон, кстати, подобно мне, был в молодости боксером и даже чемпионом.
Якобсон был одним из лучших публицистов Самиздата. Не знаю, кого с ним рядом можно поставить — может быть, Чуковскую или Солженицына. Текстов, подписанных его именем, немного, но любой делает честь его перу. Гораздо больше текстов написано при его решающем участии. Его таланту и темпераменту было тесновато в строгих рамках информационных сообщений и правового анализа... Его "взрослые" литературоведческие работы выросли из цикла лекций для школьников, прочитанных им в 1965-1968 годах, — на эти лекции сбегалось пол-Москвы".
Об этих-то работах и пойдёт речь.
*****
Эссе "О романтической идеологии" Якобсон начал просто: "Хочу проследить одну тенденцию в советской поэзии 20-х годов и показать не столько литературное, сколько историческое значение этой тенденции".
На примере написанных в 1920-е годы стихов Джека Алтаузена, Михаила Голодного, Михаила Светлова, Владимира Маяковского, Николая Тихонова, Владимира Луговского, Эдуарда Багрицкого (и более поздних — Павла Антокольского) Якобсон прослеживает рождение культа силы, культа насилия, подчинения насилию и соучастия в насилии ("...если он скажет: "Солги!" — солги, если он скажет "Убей!"—- убей"), рождение культа "сверхчеловеков":
"В 20-е годы поэты работали не за страх, а за совесть. Точнее сказать, отчуждение совести благополучно совмещалось с искренностью убеждений. Это была искренняя, а потому настоящая литература, и тем заразительней она была.
Да не будет мне приписана абсурдная мысль о том, что причиной кровавой оргии 30-х годов и следующих десятилетий явилась романтическая поэзия 20-х годов. Причины были другие. Стихи не делают историю. Палачи не читают стихов...
Но для террора необходима была — в числе прочих — определенная психологическая предпосылка... общественное сознание, воспитанное в духе отчуждения, преклонения, в духе обожания кумиров-идей и кумиров-людей. Наука обожания одновременно была и наукой ненависти. Казенная, монопольная идеология по всем каналам устремлялась к сознанию масс, внедряя дух идолопоклонства. Одним из таких каналов была художественная литература".
И Якобсон ставит вопрос: насколько неизбежно было подобное "отчуждение совести"?
"Существует отчуждение личности, и существует также отчуждение идей. Идеи — философские, религиозные, социальные, нравственные, художественные — носят на себе в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца, человека, породившего данную идею. Но в процессе исторического развития, заимствования, наследования идеи утрачивают характер первоисточника, приобретая черты своих новых обладателей... Идеи, отчуждаясь, сплошь и рядом превращаются в собственную противоположность. Они работают в направлении, прямо противоположном замыслу их создателей".
Однако далеко не всякая идея поддается отчуждению, а только та, в которой «есть какие-то объективные задатки самоотчуждения; есть какая-то червоточина, за которую и хватается очередной смердяков...»
Здесь речь уже определенно не о литературе и не о прошлом. Якобсон размышляет о том, что класть в основание будущего.
"…в любом случае это должна быть идеология, не оставляющая лазеек для кровожадной нечисти, не дающая власти нелюдям над людьми. Идеология, которой не смог бы воспользоваться ни один Джугашвили, ни один Гитлер, ни один Мао. Разумеется, никакое мировоззрение само по себе не вывезет. У людей — свободная воля, за человеком остается выбор. Здесь же речь идет о том, что должно быть исключено из выбора".
Прерву поток цитат — надеюсь, читатель сам обратится к первоисточнику. Якобсон свою альтернативу, своё "иное" не то что находит — он с самого начала ему следует: не зря же в эпиграф эссе вынесена цитата из "Четвёртой прозы" Мандельштама:
"Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату: ...не расстреливал несчастных по темницам..."
Для Якобсона этот поиск и выбор был не только да и не столько литературоведческий. А через него этот выбор лёг в начала, в основание отечественного диссидентского движения.
Не могу не процитировать сообщение из вышедшего десять лет спустя, 14 марта 1978 года, 48-го выпуска "Хроники текущих событий":
"В Центральном доме литераторов
21 декабря 1977 г. секция критики Московского отделения Союза советских писателей провела в конференц-зале Центрального дома литераторов дискуссию на тему "Классика и мы". Дискуссия шла с 16 до 23 часов при переполненном зале и была, по отзывам присутствовавших, беспрецедентной в литературной жизни послевоенных лет — по откровенности, с которой выступавшие высказывали свои литературные и иные мнения.
Тон дискуссии был задан выступлениями критиков и литературоведов ПАЛИЕВСКОГО, КУНЯЕВА, КОЖИНОВА [...] принадлежащих к группировкам, характерными чертами которых являются резкая враждебность к "модернизму" и упование на национальные традиции русской культуры.
Поэт Станислав КУНЯЕВ заявил, что считает неправомерным включение в классическую традицию поэзии Э.БАГРИЦКОГО. По мнению КУНЯЕВА, БАГРИЦКИЙ полностью порвал с гуманизмом и народностью русской классики. Его поэма "Дума про Опанаса" — антикрестьянская и антинародная, а главный положительный герой этой поэмы, комиссар продотряда КОГАН, — насильник и грабитель. [...] В поэзии БАГРИЦКОГО, продолжал КУНЯЕВ, нет ни трагичности, ни очищения, а только злоба. Корни этого он видит во враждебности поэта к народному быту, в том числе — и к собственным истокам, т.е. к быту еврейских местечек его детства, о которых он пишет с ненавистью (стихотворение "Происхождение").
Антигуманистическому кредо БАГРИЦКОГО ("Но если он (век) скажет: "Солги", — солги. Но если он скажет: "Убей", — убей.") КУНЯЕВ противопоставляет иной нравственный кодекс, носителем которого был Осип МАНДЕЛЬШТАМ, продолживший русскую гуманистическую позицию ("Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей")."
Не правда ли, узнаваемо? И здесь тоже понятно, что речь идёт не только о литературе и не столько о прошлом... Отсутствуют, правда, ссылки на источник — вышедший в нью-йоркском Издательстве имени Чехова пятью годами ранее, в 1973-м, сборник "Конец трагедии", в который вошло эссе "О романтической идеологии". Впрочем, тексты и выступления того же рода повторялись и десять, и пятнадцать лет спустя...
Понимание опасности отчуждения идеи было заложено в самом начале пути, в основание диссидентского движения. Вопрос лишь в том, чтобы поверять себя своим же собственным словом.
Не менее важен для понимания мотивов и образа действий Анатолия Якобсона другой его текст — "Два решения. Еще раз о 66-м сонете", где он сравнивает переводы Шекспира, выполненные Борисом Пастернаком и Самуилом Маршаком. Переводы Маршака признаны лучшими, но Якобсон спорит с, казалось бы, очевидным:
"Когда требуется пересоздать поэзию как таковую, все установки, связанные с поэтикой оригинала, представляют собой лишь техническую и второстепенную сторону дела. А главное здесь — приобщиться тому строю чувств, которым продиктовано оригинальное произведение".
У Маршака: "Высокий стиль, торжественные слова, величавая приподнятость речи... Все пронизано благородным негодованием, но не хватает непосредственности чувства… У Шекспира дело обстоит не совсем так".
Совершенно иначе, отмечает Якобсон, построен перевод Пастернака: "Слова — безыскусственно-простые, разговорные до приземленности — создают естественную интонацию, лишенную литературности, но полную подлинного чувства. Это иной ключ перевода, иная человеческая позиция поэта. Не громкий пафос обличения, а тихо произносимая жалоба до смерти уставшего, измученного жизнью человека. Именно таким настроением и проникнут 66-й сонет…
Сравним последние двустишия обоих переводов, — итог, эмоционально-смысловой концентрат произведения. У Маршака: "Все мерзостно, что вижу я вокруг... / Но как тебя покинуть, милый друг!" Эти строки не сильней, а слабей прочих. [...] Шекспир предпоследней строкой почти повторяет первую. [...] Пастернак воспроизвел эту особенность 66-го сонета неукоснительно: "Измучась всем, не стал бы жить и дня, / Да другу трудно будет без меня". Это — пронзительное двустишие, поэтическое могущество которого не нуждается ни в каких комментариях. Окончен сонет, и открывается безграничное свободное пространство, в которое мы вступаем по следам Шекспира".
Именно так вступал в свободное пространство Анатолий Якобсон. Именно такой канон задал он своими "правозащитными" текстами.
Не пафос, а простые слова. Взгляд не со стороны, не с горних высей, а изнутри. Ощущение зла не как внешней, незнамо откуда привнесенной довлеющей силы — "трагедия не только в перевесе зла над добром, но и в примиренности добра со своим бессилием". И едва ли не главный побудительный мотив: "другу трудно будет без меня".
*****
Теперь, в начале 1973-го, друзья решали его судьбу. "Отвлечённый взгляд сверху", по признанию Ковалева, не получался:
"Нужно было реально представить себе Тошку в лагере. Как он, в ответ на первую же мерзость, профессионально нокаутирует какого-нибудь офицера из охраны, со всеми вытекающими последствиями.
Легко сказать, что отказываешься решать судьбу другого человека за него; но если этот другой — твой близкий друг, и если отказ от решения — это уже решение?"
Я не помню тогдашних наших аргументов и соображений, и быть может, в том, о чем я сейчас пишу, есть определенная доля моих сегодняшних сомнений и раздумий. Но, так или иначе, решение было принято такое: с очередным выпуском повременить".
*****
В августе 1973-го Анатолий Якобсон с семьёй выехал из Советского Союза в Израиль. Проводы проходили сразу в двух квартирах — в якобсоновской и у жившего двумя этажами ниже Юрия Карякина.
На первый взгляд, в эмиграции его ожидала новая жизнь:
"Якобсона, члена Международного Пен-клуба, автора книги о Блоке, ожидала кафедра на факультете славистики Иерусалимского университета. Он работал на этой кафедре, писал статьи о русской поэзии. Потом впадал в черную депрессию, бросал все и уходил из университета — грузчиком на мукомольню (физически он был здоров как бык). Опять возвращался в университет, снова бросал его и снова возвращался. Писал друзьям в Россию письма, то бодрые, то отчаянные. Женился на молоденькой девушке, писал, что счастлив безумно, воспрял духом, строил планы..."
А 28 сентября 1978 года Анатолий Якобсон покончил с собой. Повесился в подвале. Не выдержал...
Сергей Ковалев до сего дня не уверен в правильности их решения — спасти друга, избавив от лагерного срока:
"Никто, конечно, не может теперь в точности ответить на этот вопрос. Но мне кажется, что в лагере Тошка выжил бы: на накале противостояния, на спортивной злости, на чувстве солидарности. Он был боец и в экстремальной ситуации не допустил бы себя до депрессии... Разумеется, он, с его темпераментом, не вылезал бы из карцеров; очень вероятно, что он схлопотал бы новый срок и, может быть, не один. И все же, сейчас он, может быть, был бы жив".
Вспоминая сегодня "Хронику", вспомним Анатолия Якобсона. Сорок лет назад ему исполнилось тридцать три... "Хроника" проросла на русской почве, разрыва с которой Якобсон пережить не смог. Об этом говорит и Сергей Ковалёв:
"Когда говорят о диссидентстве как способе самореализации для неудачников и бездарностей, я вспоминаю Тошку Якобсона, его великолепный талант, человеческий и профессиональный. Когда говорят о диссидентах, как людях, равнодушных или враждебных России, я опять же вспоминаю Тошкину почти физиологическую связь с русской культурой. Разрыв или ослабление этой связи, невозможность слышать вокруг себя русскую речь, и привели его — я в этом уверен — к гибели".
Ссылки:
- Сергей Ковалёв, "Полёт белой вороны" Sergei Kowaljov, Der Flug des weissen Raben/Von Sibirien nach Tschetschenien: Eine lebensreise. - Rowohlt/Berlin, 1997)
- Эссе "О романтической идеологии" написано на основе лекции, прочитанной в 1968 г. ученикам 2-й московской школы. Впервые опубликовано в кн. "Конец трагедии". Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1973. с.199. Перепечатано в журн. "Новый Мир", Москва, 1989, № 4. с.231. См. также сб. "Почва и судьба". Вильнюс-Москва, 1992. с.159.
- "Два решения. Еще раз о 66-м сонете", Мастерство перевода, 1966. Москва, "Советский писатель", 1968.
Об авторе: Александр Черкасов - член правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал"
Источник: "Ежедневный журнал"
Александр Черкасов, 04/05/08 О правозащитниках Просветительство Статьи правозащитников
"Удар был нанесён в чувствительное место: люди чести, не склонные поддаваться угрозам в свой адрес, ещё менее склонны быть свободными за чужой счёт. Следователь КГБ назвал и имя заложника: Анатолий Александрович Якобсон..."
Тридцатого апреля стоило бы отметить всамделишний "день печати": исполняется сорок лет со дня выхода первого номера "Хроники текущих событий". Выходивший пятнадцать лет неподцензурный бюллетень по точности и достоверности мог бы послужить образцом для современных масс-медиа.
Впрочем, об истории "Хроники" можно было немало узнать в последние дни — "разворот" и пресс-конференция в "Новой газете", "круглый стол" и опять-таки пресс-конференция в "Новом времени". Слышны голоса редакторов "Хроники" — Натальи Горбаневской и Сергея Ковалёва.
Но я хочу сказать несколько слов об одном из тех, кого сегодня нет. 30 апреля 1968 года, в день выхода первого выпуска "Хроники", ему исполнилось тридцать три года. Человек, блиставший на любом поприще, — учитель литературы в столичной 2-й математической школе, литературовед, переводчик. После ареста в декабре 1969-го Натальи Горбаневской он занял её место и с начала 1970-го стал "выпускающим редактором" "Хроники". Два года спустя, в начале 1972-го, стал отходить от "хроникальных" дел. А в конце года оказался в положении заложника.
Комитет государственной безопасности дал знать, что если выпуск "Хроники" не будет прекращен, то следующим арестован будет не кто-то из "хроникёров", но человек, к изданию уже не причастный. Удар был нанесён в чувствительное место: люди чести, не склонные поддаваться угрозам в свой адрес, ещё менее склонны быть свободными за чужой счёт. Следователь КГБ назвал и имя заложника: Анатолий Александрович Якобсон.
В начале 1973 года его судьбу и судьбу "Хроники" решали без его участия. Собрался самый тесный круг...
Вот что писал об Анатолии Якобсоне сменивший его на посту редактора "Хроники" Сергей Адамович Ковалёв:
"Мне никогда в жизни не приходилось наблюдать извержение вулкана, но если когда-нибудь придется, то, подозреваю, не увижу ничего нового. Тошка все время жил в состоянии какого-то непрерывного процесса взрывного саморасточения — таланта, обаяния, блестящего (хотя не всегда пригодного для салонов) остроумия, любви к друзьям, женщинам, стихам. Я не знаю другого человека, который настолько широко знал и глубоко чувствовал поэзию, как Якобсон. Это же относилось и к истории, — в особенности — к русской поэзии и русской истории.
В них он просто жил, столь же осязаемо, как иные живут в своем материальном окружении. Сказанное не означает, что Якобсон был исключительно человеком эмоций. ...его мысль литературоведа и историка, всегда была ясной, сильной и неотразимой, как удар. Якобсон, кстати, подобно мне, был в молодости боксером и даже чемпионом.
Якобсон был одним из лучших публицистов Самиздата. Не знаю, кого с ним рядом можно поставить — может быть, Чуковскую или Солженицына. Текстов, подписанных его именем, немного, но любой делает честь его перу. Гораздо больше текстов написано при его решающем участии. Его таланту и темпераменту было тесновато в строгих рамках информационных сообщений и правового анализа... Его "взрослые" литературоведческие работы выросли из цикла лекций для школьников, прочитанных им в 1965-1968 годах, — на эти лекции сбегалось пол-Москвы".
Об этих-то работах и пойдёт речь.
*****
Эссе "О романтической идеологии" Якобсон начал просто: "Хочу проследить одну тенденцию в советской поэзии 20-х годов и показать не столько литературное, сколько историческое значение этой тенденции".
На примере написанных в 1920-е годы стихов Джека Алтаузена, Михаила Голодного, Михаила Светлова, Владимира Маяковского, Николая Тихонова, Владимира Луговского, Эдуарда Багрицкого (и более поздних — Павла Антокольского) Якобсон прослеживает рождение культа силы, культа насилия, подчинения насилию и соучастия в насилии ("...если он скажет: "Солги!" — солги, если он скажет "Убей!"—- убей"), рождение культа "сверхчеловеков":
"В 20-е годы поэты работали не за страх, а за совесть. Точнее сказать, отчуждение совести благополучно совмещалось с искренностью убеждений. Это была искренняя, а потому настоящая литература, и тем заразительней она была.
Да не будет мне приписана абсурдная мысль о том, что причиной кровавой оргии 30-х годов и следующих десятилетий явилась романтическая поэзия 20-х годов. Причины были другие. Стихи не делают историю. Палачи не читают стихов...
Но для террора необходима была — в числе прочих — определенная психологическая предпосылка... общественное сознание, воспитанное в духе отчуждения, преклонения, в духе обожания кумиров-идей и кумиров-людей. Наука обожания одновременно была и наукой ненависти. Казенная, монопольная идеология по всем каналам устремлялась к сознанию масс, внедряя дух идолопоклонства. Одним из таких каналов была художественная литература".
И Якобсон ставит вопрос: насколько неизбежно было подобное "отчуждение совести"?
"Существует отчуждение личности, и существует также отчуждение идей. Идеи — философские, религиозные, социальные, нравственные, художественные — носят на себе в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца, человека, породившего данную идею. Но в процессе исторического развития, заимствования, наследования идеи утрачивают характер первоисточника, приобретая черты своих новых обладателей... Идеи, отчуждаясь, сплошь и рядом превращаются в собственную противоположность. Они работают в направлении, прямо противоположном замыслу их создателей".
Однако далеко не всякая идея поддается отчуждению, а только та, в которой «есть какие-то объективные задатки самоотчуждения; есть какая-то червоточина, за которую и хватается очередной смердяков...»
Здесь речь уже определенно не о литературе и не о прошлом. Якобсон размышляет о том, что класть в основание будущего.
"…в любом случае это должна быть идеология, не оставляющая лазеек для кровожадной нечисти, не дающая власти нелюдям над людьми. Идеология, которой не смог бы воспользоваться ни один Джугашвили, ни один Гитлер, ни один Мао. Разумеется, никакое мировоззрение само по себе не вывезет. У людей — свободная воля, за человеком остается выбор. Здесь же речь идет о том, что должно быть исключено из выбора".
Прерву поток цитат — надеюсь, читатель сам обратится к первоисточнику. Якобсон свою альтернативу, своё "иное" не то что находит — он с самого начала ему следует: не зря же в эпиграф эссе вынесена цитата из "Четвёртой прозы" Мандельштама:
"Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату: ...не расстреливал несчастных по темницам..."
Для Якобсона этот поиск и выбор был не только да и не столько литературоведческий. А через него этот выбор лёг в начала, в основание отечественного диссидентского движения.
Не могу не процитировать сообщение из вышедшего десять лет спустя, 14 марта 1978 года, 48-го выпуска "Хроники текущих событий":
"В Центральном доме литераторов
21 декабря 1977 г. секция критики Московского отделения Союза советских писателей провела в конференц-зале Центрального дома литераторов дискуссию на тему "Классика и мы". Дискуссия шла с 16 до 23 часов при переполненном зале и была, по отзывам присутствовавших, беспрецедентной в литературной жизни послевоенных лет — по откровенности, с которой выступавшие высказывали свои литературные и иные мнения.
Тон дискуссии был задан выступлениями критиков и литературоведов ПАЛИЕВСКОГО, КУНЯЕВА, КОЖИНОВА [...] принадлежащих к группировкам, характерными чертами которых являются резкая враждебность к "модернизму" и упование на национальные традиции русской культуры.
Поэт Станислав КУНЯЕВ заявил, что считает неправомерным включение в классическую традицию поэзии Э.БАГРИЦКОГО. По мнению КУНЯЕВА, БАГРИЦКИЙ полностью порвал с гуманизмом и народностью русской классики. Его поэма "Дума про Опанаса" — антикрестьянская и антинародная, а главный положительный герой этой поэмы, комиссар продотряда КОГАН, — насильник и грабитель. [...] В поэзии БАГРИЦКОГО, продолжал КУНЯЕВ, нет ни трагичности, ни очищения, а только злоба. Корни этого он видит во враждебности поэта к народному быту, в том числе — и к собственным истокам, т.е. к быту еврейских местечек его детства, о которых он пишет с ненавистью (стихотворение "Происхождение").
Антигуманистическому кредо БАГРИЦКОГО ("Но если он (век) скажет: "Солги", — солги. Но если он скажет: "Убей", — убей.") КУНЯЕВ противопоставляет иной нравственный кодекс, носителем которого был Осип МАНДЕЛЬШТАМ, продолживший русскую гуманистическую позицию ("Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей")."
Не правда ли, узнаваемо? И здесь тоже понятно, что речь идёт не только о литературе и не столько о прошлом... Отсутствуют, правда, ссылки на источник — вышедший в нью-йоркском Издательстве имени Чехова пятью годами ранее, в 1973-м, сборник "Конец трагедии", в который вошло эссе "О романтической идеологии". Впрочем, тексты и выступления того же рода повторялись и десять, и пятнадцать лет спустя...
Понимание опасности отчуждения идеи было заложено в самом начале пути, в основание диссидентского движения. Вопрос лишь в том, чтобы поверять себя своим же собственным словом.
Не менее важен для понимания мотивов и образа действий Анатолия Якобсона другой его текст — "Два решения. Еще раз о 66-м сонете", где он сравнивает переводы Шекспира, выполненные Борисом Пастернаком и Самуилом Маршаком. Переводы Маршака признаны лучшими, но Якобсон спорит с, казалось бы, очевидным:
"Когда требуется пересоздать поэзию как таковую, все установки, связанные с поэтикой оригинала, представляют собой лишь техническую и второстепенную сторону дела. А главное здесь — приобщиться тому строю чувств, которым продиктовано оригинальное произведение".
У Маршака: "Высокий стиль, торжественные слова, величавая приподнятость речи... Все пронизано благородным негодованием, но не хватает непосредственности чувства… У Шекспира дело обстоит не совсем так".
Совершенно иначе, отмечает Якобсон, построен перевод Пастернака: "Слова — безыскусственно-простые, разговорные до приземленности — создают естественную интонацию, лишенную литературности, но полную подлинного чувства. Это иной ключ перевода, иная человеческая позиция поэта. Не громкий пафос обличения, а тихо произносимая жалоба до смерти уставшего, измученного жизнью человека. Именно таким настроением и проникнут 66-й сонет…
Сравним последние двустишия обоих переводов, — итог, эмоционально-смысловой концентрат произведения. У Маршака: "Все мерзостно, что вижу я вокруг... / Но как тебя покинуть, милый друг!" Эти строки не сильней, а слабей прочих. [...] Шекспир предпоследней строкой почти повторяет первую. [...] Пастернак воспроизвел эту особенность 66-го сонета неукоснительно: "Измучась всем, не стал бы жить и дня, / Да другу трудно будет без меня". Это — пронзительное двустишие, поэтическое могущество которого не нуждается ни в каких комментариях. Окончен сонет, и открывается безграничное свободное пространство, в которое мы вступаем по следам Шекспира".
Именно так вступал в свободное пространство Анатолий Якобсон. Именно такой канон задал он своими "правозащитными" текстами.
Не пафос, а простые слова. Взгляд не со стороны, не с горних высей, а изнутри. Ощущение зла не как внешней, незнамо откуда привнесенной довлеющей силы — "трагедия не только в перевесе зла над добром, но и в примиренности добра со своим бессилием". И едва ли не главный побудительный мотив: "другу трудно будет без меня".
*****
Теперь, в начале 1973-го, друзья решали его судьбу. "Отвлечённый взгляд сверху", по признанию Ковалева, не получался:
"Нужно было реально представить себе Тошку в лагере. Как он, в ответ на первую же мерзость, профессионально нокаутирует какого-нибудь офицера из охраны, со всеми вытекающими последствиями.
Легко сказать, что отказываешься решать судьбу другого человека за него; но если этот другой — твой близкий друг, и если отказ от решения — это уже решение?"
Я не помню тогдашних наших аргументов и соображений, и быть может, в том, о чем я сейчас пишу, есть определенная доля моих сегодняшних сомнений и раздумий. Но, так или иначе, решение было принято такое: с очередным выпуском повременить".
*****
В августе 1973-го Анатолий Якобсон с семьёй выехал из Советского Союза в Израиль. Проводы проходили сразу в двух квартирах — в якобсоновской и у жившего двумя этажами ниже Юрия Карякина.
На первый взгляд, в эмиграции его ожидала новая жизнь:
"Якобсона, члена Международного Пен-клуба, автора книги о Блоке, ожидала кафедра на факультете славистики Иерусалимского университета. Он работал на этой кафедре, писал статьи о русской поэзии. Потом впадал в черную депрессию, бросал все и уходил из университета — грузчиком на мукомольню (физически он был здоров как бык). Опять возвращался в университет, снова бросал его и снова возвращался. Писал друзьям в Россию письма, то бодрые, то отчаянные. Женился на молоденькой девушке, писал, что счастлив безумно, воспрял духом, строил планы..."
А 28 сентября 1978 года Анатолий Якобсон покончил с собой. Повесился в подвале. Не выдержал...
Сергей Ковалев до сего дня не уверен в правильности их решения — спасти друга, избавив от лагерного срока:
"Никто, конечно, не может теперь в точности ответить на этот вопрос. Но мне кажется, что в лагере Тошка выжил бы: на накале противостояния, на спортивной злости, на чувстве солидарности. Он был боец и в экстремальной ситуации не допустил бы себя до депрессии... Разумеется, он, с его темпераментом, не вылезал бы из карцеров; очень вероятно, что он схлопотал бы новый срок и, может быть, не один. И все же, сейчас он, может быть, был бы жив".
Вспоминая сегодня "Хронику", вспомним Анатолия Якобсона. Сорок лет назад ему исполнилось тридцать три... "Хроника" проросла на русской почве, разрыва с которой Якобсон пережить не смог. Об этом говорит и Сергей Ковалёв:
"Когда говорят о диссидентстве как способе самореализации для неудачников и бездарностей, я вспоминаю Тошку Якобсона, его великолепный талант, человеческий и профессиональный. Когда говорят о диссидентах, как людях, равнодушных или враждебных России, я опять же вспоминаю Тошкину почти физиологическую связь с русской культурой. Разрыв или ослабление этой связи, невозможность слышать вокруг себя русскую речь, и привели его — я в этом уверен — к гибели".
Ссылки:
- Сергей Ковалёв, "Полёт белой вороны" Sergei Kowaljov, Der Flug des weissen Raben/Von Sibirien nach Tschetschenien: Eine lebensreise. - Rowohlt/Berlin, 1997)
- Эссе "О романтической идеологии" написано на основе лекции, прочитанной в 1968 г. ученикам 2-й московской школы. Впервые опубликовано в кн. "Конец трагедии". Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1973. с.199. Перепечатано в журн. "Новый Мир", Москва, 1989, № 4. с.231. См. также сб. "Почва и судьба". Вильнюс-Москва, 1992. с.159.
- "Два решения. Еще раз о 66-м сонете", Мастерство перевода, 1966. Москва, "Советский писатель", 1968.
Об авторе: Александр Черкасов - член правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал"
Источник: "Ежедневный журнал"