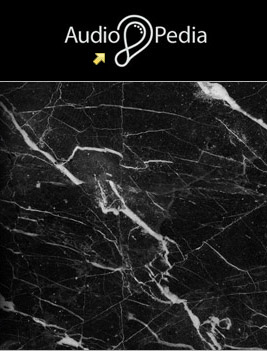Лев Шилов
Звучащее собрание сочинений Анны Ахматовой
Осип Мандельштам писал, что стихи Ахматовой "сделаны из голоса, составляют с ним одно целое". В своем знаменитом стихотворном портрете Ахматовой ("Вполоборота, о печаль…") он говорит, что этот голос "души расковывает недра". Мандельштам справедливо утверждал, что те счастливцы, которые слышали ахматовское чтение, "богаче будущих поколений, которые его не услышат". Однако звукозапись внесла в это утверждение существенную поправку.
Первый раз авторское чтение Анны Ахматовой было записано С.И. Бернштейном в Институте живого слова в Петрограде ранней весной 1920 года. Ахматова прочитала тогда небольшую, строго продуманную подборку своих произведений, среди которых были и стихи из чрезвычайно популярного в те годы сборника "Четки" (в том числе "Перо задело о верх экипажа…"), отрывки из ранней поэмы "У самого моря" и звучные, величественные строки стихотворения, получившего в те годы большой общественный резонанс.
Ахматовскую манеру чтения профессор Бернштейн, воспользовавшись удачной формулой Георгия Чулкова, определил как "стиль скорбного воспоминания". При этом он отмечал, что такой стиль так же как и "насыщенный ораторский пафос Есенина, театрально-трагический пафос Мандельштама… надо признать особенностями декламации этих поэтов в гораздо большей степени, чем свойствами их поэзии". (Бернштейн С.И. Эстетические предпосылки теории декламации. // Поэтика. - Л., 1927. - С. 44.)
Позже, когда под руководством С.И. Бернштейна я занялся переписью фоноваликов из его коллекции, он обратил мое внимание на такую особенность чтения Ахматовой, как интонационная завершенность произнесения каждого слова или словосочетания в стихотворной строке. В этом отношении (и только в этом) ее декламация может быть сопоставлена с чтецкой манерой Маяковского. Профессор Бернштейн предположил также, что, судя по типу декламации Ахматовой, время звучания читаемых ею стихотворений должно оставаться неизменным вне зависимости от обстоятельств чтения. Эта догадка полностью подтвердилась, когда мы сравнили звукозаписи одного и того же стихотворения, отделенные друг от друга сорока двумя годами. Время их звучания совпало до секунды!
(Теперь, когда общий хронометраж ахматовского звукофонда, собранного в Литературном музее и содержащего разные варианты чтения одних и тех же произведений, приближается к восьми часам, появилась возможность уточнить наблюдение С.И. Бернштейна. В целом оно оказалось верным, хотя и выяснилось, что при абсолютной повторяемости интонационного рисунка время звучания одного и того же текста может колебаться в пределах нескольких секунд).
Ахматвоские записи, сделанные С.И. Бернштейном на восковых валиках парлографа (разновидность фонографа), дошли до наших дней в плохом состоянии. Их перепись, произведенная в начале 1965 года в фонотеке Союза писателей СССР, где я тогда работал, технически получилась не совсем хорошей. Особой надобности в демонстрации Ахматовой этих фонограмм не было, но зато у меня появился не столько повод, сколько предлог для поездки к ней в Комарово, небольшой поселок Литфонда, где она тогда жила.
Мне не раз объясняли, что нужно идти от станции направо по диагонали до сельмага, потом по сосновой просеке налево и там, где кончаются большие дачи, будет несколько финских домиков, а на самом, пожалуй, неухоженном участке стоит "Будка", как это строение называла сама Ахматова. Так все и оказалось.
Никогда я не видел человека одновременно столь величественного и столь простого.
Привезенная мною старая фонограмма, казалось, мало заинтересовала Анну Андреевну. Во всяком случае, я не заметил у нее того интереса, с каким обычно человек слушает запись своего голоса, свою "голосовую фотографию", да еще сделанную так давно.
Думая, что эта незаинтересованность происходит оттого, что запись столь несовершенна, я напомнил, что сделана она была на очень примитивном аппарате и много лет назад.
- Нет, мне всегда не везло с записями, - сказала Ахматова. - Всегда что-то случалось. Один раз - даже бомбежка. Во время войны Радиокомитет делал эту запись в квартире Зощенко. (Я знал, что Зощенко в то время много работал для радио, но почему запись делалась именно в его квартире, спросить не решился). И вдруг обстрел!
Потом Ахматова спросила:
- А что же вам прочитать? Может быть, вы сами отберете?
Анна Андреевна дает мне лежащую на столе между витыми свечами в старинных подсвечниках большую папку со стихами (позже я понял, что это был машинописный экземпляр "Бега времени" - книги, которая тогда готовилась к изданию), я листаю эту кипу и не знаю, на чем остановиться.
- Давайте запишем то, что вы хотите, - предлагаю я.
- Но, может быть, они вам не подходят? - спрашивает Ахматова.
Это говорится спокойно и не то что покорно, но привычно к тому, что и как отбирали радиоредакторы для ее в то время еще редких передач. И вместе с тем с некоторым оттенком снисходительности. На мой протестующий возглас следует ее примиряюще-великодушная реплика (сохранившаяся на пленке):
- Что ж, бывает, бывает…
Я выбираю стихотворений двадцать.
- Я не могу так много! - говорит Ахматова.
Сегодня, вслушиваясь в ее жалобную, почти молящую интонацию, зафиксированную магнитофоном, я краснею за свою настойчивость, но и радуюсь тому, что записано было действительно много и, главным образом, по выбору самой Ахматовой.
Может быть, отчасти потому, что это был особый день - 9-е мая, Ахматова прочитала несколько стихотворений из цикла "Ветер войны", которые, насколько мне известно, она в последние годы на магнитофон не записывала.
Еще она выбрала отрывки из "Поэмы без героя" и целиком - большой цикл "Полночные стихи". Почти полностью он был написан ею двумя годами раньше, но завершающее стихотворение - совсем незадолго до записи, в начале 1965 года. Теперь Ахматова считала цикл вполне законченным и, вероятно, поэтому решила его прочесть.
Интонационно декламация Ахматовой сильно отличается от ее разговора. Она читает более низким голосом, несколько отрешенно и торжественно. Голос ее удивительно красив, полнозвучен, "виолончелен", богат тембровыми оттенками. Чувствуется, что она сама хорошо его слышит и мастерски им управляет. Каждое слово произносится с какой-то особой весомостью. Редки, но очень выразительны отступления от общего напевного ритма, когда в более разговорной манере Ахматова как бы передает свое отношение к изображаемому. Звучание некоторых стихотворений отличается повышенной музыкальностью, то есть особо строгой размеренностью произнесения и слегка подчеркнутой мелодикой в некоторых фразах.
Так читает она, например, "Ночное посещение". Может быть, потому, что за этими строками звучит ей музыка Вивальди, которую она упоминает в первой же строфе. После некоторых колебаний (хотя я не раз повторил, что записываю не для радио, не для журнала, а "просто так, для истории") Ахматова, заметив, правда: "Я не уверена, что это можно", все же прочитала на мой магнитофон несколько фрагментов поэмы "Реквием" (Замечу, что называть "Реквием" поэмой или циклом стихотворений, на мой взгляд, можно лишь условно, ибо подлинный жанр этого произведения с непреложной точностью обозначен самим названием).
Первопричина создания этой поэмы, ее главный смысл почти с исчерпывающей полнотой определяются уже в прозаическом вступлении - о женщинах, которые стоят в молчаливой скорбной очереди вдоль тюремной стены. Ахматова произнесла это вступление строго, торжественно, ритмично:
"...В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то "опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом". На пленке эта часть "Реквиема" длится почти минуту. И каждое слово в звучании ахматовского голоса как бы укрупняется, делается еще значительнее. Автобиографический эпизод превращается в скульптурно рельефную драматическую сцену. Слова, когда-то произнесенные шепотом, Ахматова теперь повторяет громко и внятно. Скорбно и вместе с тем непреклонно короткое клятвенное обещание:
"- Могу".
И как горестна эта слабая, недоверчивая улыбка "Женщины с голубыми губами" - улыбка, после которой стихи уже не могли не быть написаны. И вот они зазвучали:
Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними "каторжные норы"
И смертельная тоска.
Еще в тот день Ахматова прочитала в мой микрофон входящие в "Реквием" стихотворения "Узнала я, как опадают лица…" и "Опять поминальный приблизился час…". Таким образом, сложилась определенная, относительно самостоятельная композиция, в которой прежде всего дан образ "невольных подруг" по тюремной очереди. (Образ женской очереди, очень близкий к ахматовскому, воссоздаст через много лет Тенгиз Абуладзе в "Покаянии").
Все стихи цикла и произаическое вступление к ним я знал примерно с 1963 года, когда машинописная копия "Реквиема" получила в кругах любителей литературы достаточно широкое распространение (после того как предполагавшаяся публикация в "Новом мире" не состоялась").
В Комарово я приехал с машинописными листами, собираясь просить прочитать эти стихи и наивно полагая, что автор, может быть, не помнит их наизусть, а текста может не оказаться под рукой. Тогда я еще не знал тех слов Ахматовой, которые позже, работая над ахматовским архивом, увидел написанными ее рукой: "…Остальное настолько окаменело в памяти, что умрет только со мною вместе".
Поэтическая сила "Реквиема" необычайна. Но одно дело - читать эти строки на машинописной странице и совершенно другое - слышать их от автора - не только художника и летописца, но свидетеля и участника трагических событий.
И еще, как я убедился, одно дело - слушать эту запись самому или в узком кругу, и совершенно другое - в переполненном зале. Так было весной 1987 года в Центральном доме актера, где ахматовское чтение "Реквиема" впервые публично прозвучало на вечере из цикла "Голоса, зазвучавшие вновь" (а в декабре "Кругозор" дал первую пластиночную публикацию).
Когда в мае 1965 года просил Ахматову прочитать "Реквием" перед магнитофоном, а она вслух раздумывала, стоит ли это делать, она еще сказала, что пока у нас из всего цикла напечатаны только два стихотворения. Я знал, что в давней журнальной публикации Ахматова поставили заведомо неверную дату - "1934" и сняла название "Приговор". Таким образом, центральное стихотворение цикла, его кульминация, могло быть воспринято читателями не как слово о народном горе, а как отзвук некой любовной драмы. Но ко времени той записи, о которой здесь идет речь, и подлинная дата была уже восстановлена, да и весь цикл напечатан отдельным изданием за рубежом. Показывая мне эту книгу, Анна Андреевна обратила мое внимание на редакционное предуведомление о том, что стихи печатаются без ведома автора. И произнесла примерно следующее:
- Попробовали бы они это не написать! Да я бы им…
Какие слова последовали дальше я, как ни стараюсь, вспомнить не могу. Это были какие-то шутливо сказанные, но достаточно свирепые слова, вроде того, что "я бы сделала из них отбивную".
Показала мне Ахматова и несколько фотографий, сделанных в Италии, когда она получала там международную литературную премию. На это торжество была послана представительная советская делегация: Анну Андреевну сопровождали А. Твардовский, А. Сурков, К. Симонов, М. Бажан.
Меня несколько удивила разница между тем, с каким Ахматова, показывая эти фотографии, рассказывала о премии, о предстоящей поездке в Оксфорд на торжественную церемонию получения высокого звания и докторской мантии, и тем, как она говорила о письмах своих читателей и слушателей.
Дело в том, что в 1964-м и в начале 1965 года состоялось несколько выступлений Ахматовой по ленинградскому и московскому радио. И вот о слушательских откликах на эти передачи она говорила, как мне тогда показалось, с большей (во всяком случае, с не меньшей) заинтересованностью, чем о международном признании. Мне отчетливо запомнился внешний вид одного из читательских писем (на бумаге был характерный рисунок) и то, что это "письмо моряков", как сказала Анна Андреевна.
Только много позже, уже вплотную занявшись изучением биографии Ахматовой, я смог понять ее так до конца и не утоленное желание быть услышанной, прочитанной. И самые высокие оценки ее творчества, приходившие из-за рубежа, не могли и в малой степени сравниться для нее с весточками от того читателя, о котором она так много думала, которого жаждала.
То, что у нее появился еще и слушатель - радиослушатель - радовало Ахматову, волновало, будило фантазию. Мне кажется, что у нее возникло даже несколько преувеличенное представление о масштабах слушавшей ее радиоаудитории.
В отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина позже я разыскал то письмо, которое когда-то показывала мне Ахматова, и прочитал его более внимательно:
"12 апреля 1965 г.
Сердечный привет из Архангельска.
Здравствуйте, уважаемая русская советская поэтесса Анна Андреевна Ахматова!
Мы, это группа молодежи, лесопильщики и моряки архангельских лесозаводом и пароходов, познакомились с Вами на литературном вечере по радио. Вы читали, проникновенно декламировали. Мы слушали с любовью, с наслаждением. Хорошие стихи, как вино, немного опьяняли.
Стихи, цветы и музыка - неотъемлемые вещи, потребность их ощущаешь.
Мне коллектив поручил передать беломорскую Вам благодарность за стихи "Муза".
Желаем Вам новых успехов, счастья и здоровья.
Талашев Александр Андреевич, бывший танкист".
По всей видимости, это был отклик на выступление Ахматовой в передаче "Литературные вечера".
Кроме профессиональных радиожурналистов, ахматовский голос записывали на магнитофон в конце 50-х - начале 60-х годов люди самых разных специальностей, среди которых были и математик, и микробиолог, и редактор, и литературовед, и орнитолог. В 1956 году, например, ее записал известный лингвист профессор А.А. Реформатский, в 1958-м - поэт Наум Гребнев, в 1962-м - писатель Павел Лукницкий. Две большие записи в Ленинграде сделал поэт-переводчик Игн. Ивановский. Кажется, только на его магнитофон читала Ахматова стихи "Не оттого, что зеркало разбилось…", "Я пришла к поэту в гости…", "Заплаканная осень, как вдова…". В 1963 году большую подборку ахматовских стихов записала группа работников Литературного музея, среди которых были И.М. Эйхенгольц и Т.Н. Конопацкая. Примерно тогда же М.В. Толмачев сделал запись, на основе которой позже составил небольшую пластинку стихотворений Ахматовой Не только ее стихи, но и прозу, беседы зафиксировал на пленке историк и переводчик И.Д. Рожанский.
Записывали Ахматову и в Италии в 1964 году, а в следующем году - в Англии и во Франции. Пока мне удалось получить лишь английскую фонограмму со стихотворением "Лондонцам" и отрывком из "Поэмы без героя".
Не хватает в коллекции Литературного музея и записей, сделанных журналистом Евгением Синицыным для радиостанции "Юность"; возможны новые находки в республиканских, областных радиокомитетах. Полагаю, что и в частных московских и ленинградских собраниях найдутся пока еще не известные нам магнитофонные пленки. Но уже сейчас фонд записей стихов, поэм, мемуаров и разговоров Анны Ахматовой, собранных в Литературном музее, достигает, как упоминалось выше, восьми часов звучания и дает достаточно полное представление почти обо всех сторонах ее творчества.
Думаю, что такая полнота и представительность ахматовского фонда во многом определяются самим ее отношением к звукозаписи - вдумчивым, серьезным и вместе с тем наивно-доверчивым. Ахматова, вероятно, лучше многих своих современников осознавала значение сохраненного голоса поэта для будущих читателей и слушателей. Поэтому, насколько я могу судить, она не только охотно выполняла пожелания своих немалочисленных (как теперь выясняется) "записывателей", но и достаточно твердо корректировала их замыслы, дополняла уже сделанные записи чтением тех своих вещей, без которых собрание звучащих произведений представлялось ей неполным. Так, например, несколько раз, в разных обстоятельствах прочитала Ахматова на магнитофон стихотворения "Наследница", "Тень", "Мелхола".
Вместе с тем, обращаясь к истории ахматовских звукозаписей, можно увидеть, как последовательно уклонялась она от чтения того, что было для ее творчества менее характерным или случайным.
Никому из журналистов так и не удалось, например, уговорить ее записать ан пленку такие стихотворения, как "В пионерлагере", "Приморский парк Победы", "Песня мира", "Поджигателям", "Севморпуть", "И в великой нашей отчизне…" и другие, написанные в начале 50-х годов под давлением внешних, очень тяжелых обстоятельств. Этих и им подобных стихов в авторском чтении мы не услышим никогда. Подчеркнуто негодующе отзывалась Ахматова и на попытки запечатлеть на пленке те стихи или беседы, которые она сама "для вечности" не предназначала. Среди ахматовских фонограмм, хранящихся в Литературном музее, лишь один раз зафиксировано чтение таких совсем ранних стихотворений, как "Читая Гамлета" (запись 1962 года) и "Любовь" (запись 1963 года). Объясняется это тем, что в последние годы жизни - а большинство записей было сделано именно тогда - Ахматова обычно вообще отклоняла просьбы прочитать ранние стихи.
Игн. Ивановский рассказывает в своих воспоминаниях ("Север". 1969. № 6) о том, как, не соглашаясь записать на его магнитофон стихотворение "Сжала руки под темной вуалью…", Анна Андреевна сказала: "Я забыла, как это произносится".
Думаю, что это была лишь вежливая форма отказа читать одно из тех знаменитых стихотворений, особое пристрастие к которым иных читателей вызывало у нее оттенок досады. Но иногда некоторым счастливцам удавалось ее уговорить, и стихотворение "Сжала руки под темной вуалью…" дошло до нас даже на двух пленках: одна была записана в Москве поэтом Сергеем Дрофенко, другая - радиожурналисткой Зоей Давыдовой в Ленинграде.
…Уже давно никто не носит вуаль, уже не все даже и знают, что это такое, а стихотворение продолжает жить, волновать, заставляет сопереживать героине, которая молит о сочувствии.
Сжала руки под темной вуалью...
"Отчего ты сегодня бледна?"
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна...
Андрей Платонов в рецензии на книгу Ахматовой 1940 года так писал о герое этого стихотворения: "Вопль любящей женщины заглушается пошлым бесчеловечием любимого; убивая, он заботится о ее здоровье: "не стой на ветру" (Платонов А. Размышления читателя. - М., 1970). Платонов писал дальше о том, что в стихотворении показан довольно распространенный тип мужчины, который испытывает сердце женщины своей "мужественной" беспощадностью, сохраняя при этом вежливую рассудочность.
Когда весной 1984 года в радиопередаче для школьников я напомнил эти слова Платонова, артистка Татьяна Доронина, читавшая в передаче стихи Ахматовой, с этой трактовкой не согласилась, и в эфире прозвучали его слова о том, что и герой тоже обижен, что, может быть, "это тот случай, когда виноваты оба".
Интересно, что такое понимание стихотворения, продиктованное художественной интуицией актрисы и ее женским чутьем, вполне не согласуется с литературоведческой точкой зрения. Как считает исследователь творчества Ахматовой А.А. Урбан, эту фразу "мог произнести и трагически несчастный, глубоко уязвленный, отчаявшийся человек".
И сам спор в эфире, и многочисленные письма школьников (и особенно школьниц), полученные в ответ на передачу, показывают, что даже ранние стихи Ахматовой при всей кажущейся их простоте не поддаются однозначному толкованию. И они вовсе не являются "лирическим дневником" автора, как нередко полагали наивные читатели (и это приводило иногда к забавным, а иногда к грустным недоразумениям).
Самую большую по времени звучания запись, посвященную раннему периоду жизни и творчества Ахматовой, посчастливилось сделать И.Д. Рожанскому в 1963 году. Пленка запечатлела воспоминания Анны Андреевны о встречах в 1911 году с Амедео Модильяни, тогда еще безвестным итальянским художником. Эти воспоминания были впоследствии опубликованы. Но звукозапись наряду с драгоценными приметами времени доносит до нас еще и интонации когда-то произнесенных фраз. Рассказывая, Ахматова передает некоторые фразы Модильяни по-французски, то есть так, как они звучали в устах художника.
Гораздо охотнее, чем ранние свои стихи, читала Ахматова лирику более поздних лет. Причем нередко записывала на магнитофон тот или иной цикл полностью. Правда, из цикла "Разрыв" иногда выбирала только одно стихотворение - "И как всегда бывает в дни разрыва…", но чаще читала все три.
Известно несколько пленок, сохранивших ее чтение циклов "Cinque" и "Полночные стихи". То, что Ахматова записала их целиком, понятно: эти стихотворения так тесно взаимосвязаны, что могут быть достаточно полно восприняты только в контексте всего цикла. Поэтому, на мой взгляд, неправомерны попытки включения в радиопередачи отдельных фрагментов этих записей: слишком многое теряют стихи ахматовских лирических циклов, вынутые из "естественной среды обитания".
Большое место в звуковом фонде Ахматовой занимает тема поэтического творчества. И для радиопередач, и на магнитофоны любителей были записаны стихотворения из цикла "Тайны ремесла". Их она включила в 1962 году и в первую свою грампластинку.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что, записывая на пленку стихи о поэзии, Ахматова почти непременно читала стихотворение "я над ними склонюсь, как над чашей…", обращенное к Осипу Мандельштаму, - поэту, которого она высоко чтила, человеку, с которым ее связывала многолетняя дружба. Обычно она читала сокращенный вариант, но однажды для записи, сделанной близким ей человеком, переводчицей и редактором Никой Николаевной Глен, прочитала его полностью (так, как оно печатается теперь), причем сразу после стихотворения "Привольем пахнет дикий мед…"
Эта последовательность (как все, что писала и делала Ахматова) далеко не случайна. Стихотворение "Привольем пахнет дикий мед…" было тесно связано в ее сознании с именем Мандельштама, в частности, и потому, что, как свидетельствует одна из помет, сохранившихся в ахматовском рукописном архиве, поэт считал его у Ахматовой лучшим.
Непосредственно же перед чтением это стихотворения в записи Н. Глен звучит название того цикла, который так до конца и не был дописан, но планы которого не раз встречаются в рукописях Ахматовой. Чаще всего она даже называла этот цикл "книга". Вот и пленка сохранила такие ее слова: "Из книги "Венок мертвым".
В единый цикл ("книгу") предполагалось объединить стихи памяти Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Бориса Пильняка, Осипа Мандельштама, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова. Стихотворение "Памяти Михаила Булгакова", насколько мне известно, никогда не записывалось. Но на этой пленке звучит (прочитанное, вероятно, по ассоциации с ним) стихотворение "Хозяйка", посвященное вдове Булгакова, - Елене Сергеевне. Внешним поводом к его написанию послужило то, что в эвакуации в Ташкенте Ахматова одно время жила в комнате, которую до нее занимала Е.С. Булгакова.
Как отмечал В.М. Жирмунский, у Ахматовой "было свое, "домашнее" восприятие Пушкина - не как поэта далекого прошлого, а как близкого ей человека…" Академик Жирмунский имеет в виду, в частности, стихотворение "Пушкин" ("Кто знает, что такое слава!.."),написанное в 1943 году и сохранившееся в звукозаписи 1962 года, сделанной ленинградским телевидением.
В еще большей степени "домашнее", интимное и очень пристрастное восприятие Пушкина как близкого человека, негодование против всех, кто не понимал его, ненависть и презрение к его врагам слышатся в бесценных звукозаписях, сделанных И.Д. Рожанским во время непринужденного разговора за чайным столом.
Так, например, об одном из портретов Дантеса 40-х годов, опубликованном в журнале "Простор", Ахматова тогда сказала: "Мы все отомщены одним вот этим рисунком. Это чудовище, мещанин, лавочник! Совершенно темная личность, проходимец. Ужас, что это. Я даже не знала, что он такой был!"
Сурово и далеко не всегда справедливо говорила Ахматова о жене поэта. Вот, например, какие ее слова записал магнитофон в тот вечер:
"Я просто не знаю ни одной фразы, которую могла бы сказать в ее защиту. Я не знаю такой фразы. Когда она уезжала, она сейчас же забывала его адрес. Непременно. Потом, конечно, она транжирила деньги безобразно. Жить в деревне было спасением: какой-то год, но что можно было сделать! Ни за что, ни на минуту оторвать ее нельзя было от этих балов. Мать была никакая. Конечно уж, танцевать, имея четырех маленьких детей!… Она ни одну ночь не сидела дома, только и было ей что танцевать. Зачем? А потом, само ее поведение… Все: "Ах, она была молодая!.." Да, она была молодая, пускай. Но потом она была дама зрелого возраста. Потом она была просто пятидесятилетняя. Но ведь она же от этого не поумнела!.."
- Анна Андреевна, а что она сказала Ланскому перед смертью?
- Это уже красота!.. Когда она помирала, - она умирала от воспаления легких…
- А Ланской ее пережил?
- Да. Еще как! В этом все и дело… Ну, собрались, как всегда тогда бывало, все дети и все это такое… Очень траурное, торжественное настроение. Она благословляла детей, что-то с ними говорила. Потом она сказала: "Пьер, с тобой я не прощаюсь, потому что ты не переживешь моей смерти и тоже умрешь". Старик жил четырнадцать лет! Какой запас пошлости должен быть, чтобы умирающая женщина… вместо того, чтобы сказать, что - живи для детей, они еще маленькие…"
Про отношение же к Пушкину той молодежи, которая окружала его и его жену в домах Карамзиных и Вяземских, Ахматова говорила, что они его стихи тогда не читали и не любили:
"Нам трудно себе представить, что для них это было совсем другое лицо. Не то, что для нас. <…> Им было двадцать два, двадцать три, двадцать четыре года всем, а ему в это время было тридцать шесть. А Наталья Николаевна была в их компании; она была одна из девочек, которые <эту компанию> составляли, и веселилась с ними… И вот он, скажем, выходил, у него был недовольный вид. Или они шумели и ему не давали работать - он выходил сердитый, недовольный. И он фигурирует во всем <этом> как недобрый, старый, скучный муж. Это Пушкин!"
Особое место наряду с именем Пушкина занимало в духовном мире Ахматовой имя Данте.
Осенью 1965 года она выступила на юбилейном вечере Данте в Большом театре. Фрагменты вечера передавались по радио, и звукозапись сохранилась. По-видимому, это было ее последнее публичное выступление.
"Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освященных тем же великим именем", - сказала тогда Ахматова и закончила выступление чтением стихотворения 1936 года "Данте" (Звукозапись этого вечера, хранящаяся в ЦГАЗ, позволяет исправить ошибку в публикациях этой речи: конечно, она произнесла "освященных", а не "освещенных", как написано у публикатора).
Особенно примечательным мне кажется то, что в кратком слове, произнесенном в столь торжественной обстановке, она сочна необходимым упомянуть о тех своих друзьях и современниках, для которых Данте всегда был "величайшим и недосягаемым учителем", - о Гумилеве и Мандельштаме. А ведь тогда ее оценки были еще далеко не общепризнанными. Желание воздать должное своим друзьям, замечательным художникам, не раз становилось сильнейшим творческим импульсом для Ахматовой.
Многие тени воскрешает ахматовская "Поэма без героя", которая, как уже упоминалось, тоже записана на пленку, и не один раз. Часть этих записей вошла в грампластинки уже давно. А недавно вышло отдельное звуковое издание этой поэмы в авторском чтении.
Примечательно, что один из фрагментов, долгое время отсутствовавший по цензурным условиям в печатном тексте поэмы, впервые был опубликован именно в пластинке Ахматовой ("гранд" 1968 года) и появился в журнале "Театр" как цитата из этой пластинки:
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
Ряд прозаических и стихотворных фрагментов, в том числе и тех, что были опубликованы лишь в последнее время, а также примечательные звуковые варианты некоторых строк можно найти на компакт-диске "Анна Ахматова читает "Поэму без героя". Этот диск, изданный очень небольшим пробным тиражом, предназначен для узкого круга специалистов: ведь "Поэма без героя" для восприятия на слух все-таки трудна. Я неоднократно в этом убеждался, предлагая слушателям вечеров, проводимых в Литературном музее, то один, то другой фрагмент ахматовской фонограммы. Пожалуй, легче всего воспринималась глава, посвященная Петербургу 1913 года.
Корней Иванович Чуковский в радиопередаче 1954 года говорил о ней так:
"Здесь почти все из того, что младшему поколению читателей может показаться непонятным и даже загадочным, для меня, как и для других стариков петербуржцев, не требует никаких комментариев. Когда, например, я читаю в поэме:
Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
я вспоминаю те большие костры, которые разводились тогда на площадях у театральных подъездов, чтобы кучера, дожидавшиеся своих именитых и сановных господ, не окоченели от стужи…"
Чуковский называет Ахматову мастером исторической живописи. Разумеется, это характеристика лишь одной стороны поэмы. Но именно той, которая, как показывает практика, сравнительно легко может быть уловлена радиослушателем. Например, ряд фрагментов из "Поэмы без героя" в чтении Ахматовой прозвучал в 1984 году по ленинградскому радио в таком контексте, что воспринимался прежде всего как слово о родном для поэта городе. И такое сужение поэтического смысла ахматовского произведения было в данном случае вполне оправданным.
Бездонные глубины поэмы, ее многозначность, зеркальность образов, многочисленные историко-литературные ассоциации и реминисценции - все это приводит даже весьма квалифицированных читателей и слушателей к самым разным, чуть ли не противоположным толкованиям. Среди особенно запомнившихся Ахматовой отзывов о поэме были такие, как "трагедия совести", утверждение, что она "сводит счеты с прошлым", что это "поэма, о которой мечтали символисты"… Возникающие тут вопросы слишком сложны для обсуждения в эфире. Поэтому и приходится смириться с тем, что некоторые отрывки авторского чтения, звучащие в передачах, давали слушателю возможность лишь самого первого приближения к образному миру поэмы.
Но и те стихи в чтении Ахматовой, которые кажутся простыми и ясными, порой выигрывают в эфире от краткого комментария, сопровождающего фонограмму. Поясняющее слово, если оно созвучно духу ахматовского творчества, помогает выявить глубину этих классически прозрачных строк и строф.
В качестве примера приведу здесь комментарий Александра Межирова к одной-единственной поэтической строчке. В телепередачу "Анна Ахматова" 1979 года была включена фонограмма авторского чтения стихотворения "Мне ни к чему одические рати…". Кончается оно, как известно, словами:
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
После того, как прозвучала запись, А. Межиров сказал:
"- …История этой строчки представляется мне многозначительной. В черновике она выглядела так:
На радость вам и на мученье мне.
Но исправлена была отнюдь не в угоду какому-то заведомому оптимизму. Здесь обнаруживается редкая черта, которая проходит через все творчество Ахматовой: воля к преодолению. Эта строка шире черновой: хотя содержит в себе и ее смысл, но уже в преображенном виде".
Стихи Анны Ахматовой сейчас много и часто издают. На этом фоне менее заметны издания пластинок и дисков с записями авторского чтения. Между тем, одна из пластинок переиздавалась уже восемь раз, что для литературной пластинки является своеобразным рекордом.
А первая - маленькая пластиночка со стихами из цикла "Тайны ремесла" - вышла еще при жизни Ахматовой, в 1962 году. Вторая, та, что выдержала восемь изданий, - была выпущена в 1968 году. В нее вошли стихи первой пластинки (кроме "Музы"), стихи военных лет, цикл "Cinque", часть цикла "Полночные стихи", фрагменты "Поэмы без героя".
Еще года через два появилась маленькая пластинка лирических стихотворений, также уже несколько раз переизданная.
Несколько изданий выдержала и последняя, четвертая пластинка "Анна Ахматова. Стихи и проза", вышедшая в 1984 году и составленная по звуковым материалам Ленинградского радио, Государственного литературного музея и частных коллекций. Вошли в нее и воспоминания о Модильяни и некоторые ранние стихи, записи которых до последнего времени были почти никому не известны (даже хорошо знающий ахматовское наследие Александр Межиров утверждал в телепередаче 1979 года, что в звукозаписях "остались только стихотворения позднего периода".
Изданы уже и записи авторского чтения "Реквиема", которые в фрагментах и полностью сохранились в нескольких звуковых собраниях - Н.Н. Брауна, Н.Н. Глен, И.М. Ивановского, О.А. Ладыженской, И.Д. Рожанского… Поэтому существует возможность услышать голос Анны Ахматовой, читающей весь этот необычайный, потрясающей поэтической силы цикл от начала до конца. И еще раз вспомнятся нам гордые, горькие и провидческие ахматовские строки:
…И все-таки узнают голос мой,
И все-таки ему опять поверят.
Кроме уже названных пластинок, отдельные стихи Ахматовой в авторском чтении представлены и на пластинках серий "Говорят писатели", "Только одно стихотворение", "Поэты читают свои стихи" и других. Со второй половины 60-х годов записи голоса Ахматовой издаются за рубежом.
Так, например, Би-би-си отпечатала пластинку, на которой Ахматова говорит на французском языке о "Поэме без героя", читает отрывок из нее и еще несколько стихотворений. Запись сделана летом 1965 года. Тогда же, как это стало известно, она по просьбе известного литературоведа и переводчика Питера Нормана прочитала "Реквием" (эта запись была издана на компакт-кассете).
Магнитофон для записи Питеру Норману одолжил известный в Англии литературный критик и автор радиобесед о русской литературе Виктор Франк.
В своих воспоминаниях он пишет о том, что, когда он привез магнитофон в номер Ахматовой, она спросила:
- А вы умеете с ним обращаться?
И пожаловалась на свое неумение ладить с техникой:
- Вы знаете, в 1927 году, я была еще молодая, поехала в Кисловодск. И там за мной ухаживали шикарные химики, академики какие-то. Так они говорили: "Ну, Анна Андреевна - человек серый. Она даже в бинокль смотреть боится - как бы он не взорвался…"
Возможно, Ахматова не собиралась записывать именно "Реквием". Она намеревалась, как об этом пишет В. Франк, заранее записать на пленку свое выступление. Один раз она уже так делала в Москве, когда в 1962 году предполагалось провести ее вечер в Литературном музее, а она не была уверена в том, что здоровье позволит ей в нем участвовать. И когда такой вечер состоялся (правда, не в Литературном музее, где проводить его сочли "нецелесообразным", а в Библиотеке-музее В.В. Маяковского), то Ахматова участвовала в нем только "голосом".
В Англии же надобность в подобной предварительной записи отпала. И, по-видимому, объясняется это не только тем, что здоровье Ахматову на этот раз не подвело. Прежде всего, дело, вероятно, в том, что здесь просто не оказалось достаточно большой аудитории, которая была бы готова слушать только голос.
…Мне довелось записывать на пленку многих литераторов. Вот уже сорок лет, как это несколько странное занятие является моей основной профессией. Но кажется, что с того памятного дня, когда я приехал с магнитофоном к Анне Андреевне Ахматовой, мне уже никогда не приходилось иметь дело с поэтом, который бы так ясно представлял себе, что читает стихи не только собеседнику, не только тому, кто сейчас сидит перед ним с микрофоном, и не только тому, кто, допустим, через неделю-другую будет слушать эту запись по радио или через год-другой - с пластинки, но читает для многих и многих будущих поколений. Чувство будущих читателей, будущих слушателей было у Ахматовой очень сильно.
http://www.akhmatova.org/articles/shilov.htm
Звучащее собрание сочинений Анны Ахматовой
Осип Мандельштам писал, что стихи Ахматовой "сделаны из голоса, составляют с ним одно целое". В своем знаменитом стихотворном портрете Ахматовой ("Вполоборота, о печаль…") он говорит, что этот голос "души расковывает недра". Мандельштам справедливо утверждал, что те счастливцы, которые слышали ахматовское чтение, "богаче будущих поколений, которые его не услышат". Однако звукозапись внесла в это утверждение существенную поправку.
Первый раз авторское чтение Анны Ахматовой было записано С.И. Бернштейном в Институте живого слова в Петрограде ранней весной 1920 года. Ахматова прочитала тогда небольшую, строго продуманную подборку своих произведений, среди которых были и стихи из чрезвычайно популярного в те годы сборника "Четки" (в том числе "Перо задело о верх экипажа…"), отрывки из ранней поэмы "У самого моря" и звучные, величественные строки стихотворения, получившего в те годы большой общественный резонанс.
Ахматовскую манеру чтения профессор Бернштейн, воспользовавшись удачной формулой Георгия Чулкова, определил как "стиль скорбного воспоминания". При этом он отмечал, что такой стиль так же как и "насыщенный ораторский пафос Есенина, театрально-трагический пафос Мандельштама… надо признать особенностями декламации этих поэтов в гораздо большей степени, чем свойствами их поэзии". (Бернштейн С.И. Эстетические предпосылки теории декламации. // Поэтика. - Л., 1927. - С. 44.)
Позже, когда под руководством С.И. Бернштейна я занялся переписью фоноваликов из его коллекции, он обратил мое внимание на такую особенность чтения Ахматовой, как интонационная завершенность произнесения каждого слова или словосочетания в стихотворной строке. В этом отношении (и только в этом) ее декламация может быть сопоставлена с чтецкой манерой Маяковского. Профессор Бернштейн предположил также, что, судя по типу декламации Ахматовой, время звучания читаемых ею стихотворений должно оставаться неизменным вне зависимости от обстоятельств чтения. Эта догадка полностью подтвердилась, когда мы сравнили звукозаписи одного и того же стихотворения, отделенные друг от друга сорока двумя годами. Время их звучания совпало до секунды!
(Теперь, когда общий хронометраж ахматовского звукофонда, собранного в Литературном музее и содержащего разные варианты чтения одних и тех же произведений, приближается к восьми часам, появилась возможность уточнить наблюдение С.И. Бернштейна. В целом оно оказалось верным, хотя и выяснилось, что при абсолютной повторяемости интонационного рисунка время звучания одного и того же текста может колебаться в пределах нескольких секунд).
Ахматвоские записи, сделанные С.И. Бернштейном на восковых валиках парлографа (разновидность фонографа), дошли до наших дней в плохом состоянии. Их перепись, произведенная в начале 1965 года в фонотеке Союза писателей СССР, где я тогда работал, технически получилась не совсем хорошей. Особой надобности в демонстрации Ахматовой этих фонограмм не было, но зато у меня появился не столько повод, сколько предлог для поездки к ней в Комарово, небольшой поселок Литфонда, где она тогда жила.
Мне не раз объясняли, что нужно идти от станции направо по диагонали до сельмага, потом по сосновой просеке налево и там, где кончаются большие дачи, будет несколько финских домиков, а на самом, пожалуй, неухоженном участке стоит "Будка", как это строение называла сама Ахматова. Так все и оказалось.
Никогда я не видел человека одновременно столь величественного и столь простого.
Привезенная мною старая фонограмма, казалось, мало заинтересовала Анну Андреевну. Во всяком случае, я не заметил у нее того интереса, с каким обычно человек слушает запись своего голоса, свою "голосовую фотографию", да еще сделанную так давно.
Думая, что эта незаинтересованность происходит оттого, что запись столь несовершенна, я напомнил, что сделана она была на очень примитивном аппарате и много лет назад.
- Нет, мне всегда не везло с записями, - сказала Ахматова. - Всегда что-то случалось. Один раз - даже бомбежка. Во время войны Радиокомитет делал эту запись в квартире Зощенко. (Я знал, что Зощенко в то время много работал для радио, но почему запись делалась именно в его квартире, спросить не решился). И вдруг обстрел!
Потом Ахматова спросила:
- А что же вам прочитать? Может быть, вы сами отберете?
Анна Андреевна дает мне лежащую на столе между витыми свечами в старинных подсвечниках большую папку со стихами (позже я понял, что это был машинописный экземпляр "Бега времени" - книги, которая тогда готовилась к изданию), я листаю эту кипу и не знаю, на чем остановиться.
- Давайте запишем то, что вы хотите, - предлагаю я.
- Но, может быть, они вам не подходят? - спрашивает Ахматова.
Это говорится спокойно и не то что покорно, но привычно к тому, что и как отбирали радиоредакторы для ее в то время еще редких передач. И вместе с тем с некоторым оттенком снисходительности. На мой протестующий возглас следует ее примиряюще-великодушная реплика (сохранившаяся на пленке):
- Что ж, бывает, бывает…
Я выбираю стихотворений двадцать.
- Я не могу так много! - говорит Ахматова.
Сегодня, вслушиваясь в ее жалобную, почти молящую интонацию, зафиксированную магнитофоном, я краснею за свою настойчивость, но и радуюсь тому, что записано было действительно много и, главным образом, по выбору самой Ахматовой.
Может быть, отчасти потому, что это был особый день - 9-е мая, Ахматова прочитала несколько стихотворений из цикла "Ветер войны", которые, насколько мне известно, она в последние годы на магнитофон не записывала.
Еще она выбрала отрывки из "Поэмы без героя" и целиком - большой цикл "Полночные стихи". Почти полностью он был написан ею двумя годами раньше, но завершающее стихотворение - совсем незадолго до записи, в начале 1965 года. Теперь Ахматова считала цикл вполне законченным и, вероятно, поэтому решила его прочесть.
Интонационно декламация Ахматовой сильно отличается от ее разговора. Она читает более низким голосом, несколько отрешенно и торжественно. Голос ее удивительно красив, полнозвучен, "виолончелен", богат тембровыми оттенками. Чувствуется, что она сама хорошо его слышит и мастерски им управляет. Каждое слово произносится с какой-то особой весомостью. Редки, но очень выразительны отступления от общего напевного ритма, когда в более разговорной манере Ахматова как бы передает свое отношение к изображаемому. Звучание некоторых стихотворений отличается повышенной музыкальностью, то есть особо строгой размеренностью произнесения и слегка подчеркнутой мелодикой в некоторых фразах.
Так читает она, например, "Ночное посещение". Может быть, потому, что за этими строками звучит ей музыка Вивальди, которую она упоминает в первой же строфе. После некоторых колебаний (хотя я не раз повторил, что записываю не для радио, не для журнала, а "просто так, для истории") Ахматова, заметив, правда: "Я не уверена, что это можно", все же прочитала на мой магнитофон несколько фрагментов поэмы "Реквием" (Замечу, что называть "Реквием" поэмой или циклом стихотворений, на мой взгляд, можно лишь условно, ибо подлинный жанр этого произведения с непреложной точностью обозначен самим названием).
Первопричина создания этой поэмы, ее главный смысл почти с исчерпывающей полнотой определяются уже в прозаическом вступлении - о женщинах, которые стоят в молчаливой скорбной очереди вдоль тюремной стены. Ахматова произнесла это вступление строго, торжественно, ритмично:
"...В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то "опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом". На пленке эта часть "Реквиема" длится почти минуту. И каждое слово в звучании ахматовского голоса как бы укрупняется, делается еще значительнее. Автобиографический эпизод превращается в скульптурно рельефную драматическую сцену. Слова, когда-то произнесенные шепотом, Ахматова теперь повторяет громко и внятно. Скорбно и вместе с тем непреклонно короткое клятвенное обещание:
"- Могу".
И как горестна эта слабая, недоверчивая улыбка "Женщины с голубыми губами" - улыбка, после которой стихи уже не могли не быть написаны. И вот они зазвучали:
Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними "каторжные норы"
И смертельная тоска.
Еще в тот день Ахматова прочитала в мой микрофон входящие в "Реквием" стихотворения "Узнала я, как опадают лица…" и "Опять поминальный приблизился час…". Таким образом, сложилась определенная, относительно самостоятельная композиция, в которой прежде всего дан образ "невольных подруг" по тюремной очереди. (Образ женской очереди, очень близкий к ахматовскому, воссоздаст через много лет Тенгиз Абуладзе в "Покаянии").
Все стихи цикла и произаическое вступление к ним я знал примерно с 1963 года, когда машинописная копия "Реквиема" получила в кругах любителей литературы достаточно широкое распространение (после того как предполагавшаяся публикация в "Новом мире" не состоялась").
В Комарово я приехал с машинописными листами, собираясь просить прочитать эти стихи и наивно полагая, что автор, может быть, не помнит их наизусть, а текста может не оказаться под рукой. Тогда я еще не знал тех слов Ахматовой, которые позже, работая над ахматовским архивом, увидел написанными ее рукой: "…Остальное настолько окаменело в памяти, что умрет только со мною вместе".
Поэтическая сила "Реквиема" необычайна. Но одно дело - читать эти строки на машинописной странице и совершенно другое - слышать их от автора - не только художника и летописца, но свидетеля и участника трагических событий.
И еще, как я убедился, одно дело - слушать эту запись самому или в узком кругу, и совершенно другое - в переполненном зале. Так было весной 1987 года в Центральном доме актера, где ахматовское чтение "Реквиема" впервые публично прозвучало на вечере из цикла "Голоса, зазвучавшие вновь" (а в декабре "Кругозор" дал первую пластиночную публикацию).
Когда в мае 1965 года просил Ахматову прочитать "Реквием" перед магнитофоном, а она вслух раздумывала, стоит ли это делать, она еще сказала, что пока у нас из всего цикла напечатаны только два стихотворения. Я знал, что в давней журнальной публикации Ахматова поставили заведомо неверную дату - "1934" и сняла название "Приговор". Таким образом, центральное стихотворение цикла, его кульминация, могло быть воспринято читателями не как слово о народном горе, а как отзвук некой любовной драмы. Но ко времени той записи, о которой здесь идет речь, и подлинная дата была уже восстановлена, да и весь цикл напечатан отдельным изданием за рубежом. Показывая мне эту книгу, Анна Андреевна обратила мое внимание на редакционное предуведомление о том, что стихи печатаются без ведома автора. И произнесла примерно следующее:
- Попробовали бы они это не написать! Да я бы им…
Какие слова последовали дальше я, как ни стараюсь, вспомнить не могу. Это были какие-то шутливо сказанные, но достаточно свирепые слова, вроде того, что "я бы сделала из них отбивную".
Показала мне Ахматова и несколько фотографий, сделанных в Италии, когда она получала там международную литературную премию. На это торжество была послана представительная советская делегация: Анну Андреевну сопровождали А. Твардовский, А. Сурков, К. Симонов, М. Бажан.
Меня несколько удивила разница между тем, с каким Ахматова, показывая эти фотографии, рассказывала о премии, о предстоящей поездке в Оксфорд на торжественную церемонию получения высокого звания и докторской мантии, и тем, как она говорила о письмах своих читателей и слушателей.
Дело в том, что в 1964-м и в начале 1965 года состоялось несколько выступлений Ахматовой по ленинградскому и московскому радио. И вот о слушательских откликах на эти передачи она говорила, как мне тогда показалось, с большей (во всяком случае, с не меньшей) заинтересованностью, чем о международном признании. Мне отчетливо запомнился внешний вид одного из читательских писем (на бумаге был характерный рисунок) и то, что это "письмо моряков", как сказала Анна Андреевна.
Только много позже, уже вплотную занявшись изучением биографии Ахматовой, я смог понять ее так до конца и не утоленное желание быть услышанной, прочитанной. И самые высокие оценки ее творчества, приходившие из-за рубежа, не могли и в малой степени сравниться для нее с весточками от того читателя, о котором она так много думала, которого жаждала.
То, что у нее появился еще и слушатель - радиослушатель - радовало Ахматову, волновало, будило фантазию. Мне кажется, что у нее возникло даже несколько преувеличенное представление о масштабах слушавшей ее радиоаудитории.
В отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина позже я разыскал то письмо, которое когда-то показывала мне Ахматова, и прочитал его более внимательно:
"12 апреля 1965 г.
Сердечный привет из Архангельска.
Здравствуйте, уважаемая русская советская поэтесса Анна Андреевна Ахматова!
Мы, это группа молодежи, лесопильщики и моряки архангельских лесозаводом и пароходов, познакомились с Вами на литературном вечере по радио. Вы читали, проникновенно декламировали. Мы слушали с любовью, с наслаждением. Хорошие стихи, как вино, немного опьяняли.
Стихи, цветы и музыка - неотъемлемые вещи, потребность их ощущаешь.
Мне коллектив поручил передать беломорскую Вам благодарность за стихи "Муза".
Желаем Вам новых успехов, счастья и здоровья.
Талашев Александр Андреевич, бывший танкист".
По всей видимости, это был отклик на выступление Ахматовой в передаче "Литературные вечера".
Кроме профессиональных радиожурналистов, ахматовский голос записывали на магнитофон в конце 50-х - начале 60-х годов люди самых разных специальностей, среди которых были и математик, и микробиолог, и редактор, и литературовед, и орнитолог. В 1956 году, например, ее записал известный лингвист профессор А.А. Реформатский, в 1958-м - поэт Наум Гребнев, в 1962-м - писатель Павел Лукницкий. Две большие записи в Ленинграде сделал поэт-переводчик Игн. Ивановский. Кажется, только на его магнитофон читала Ахматова стихи "Не оттого, что зеркало разбилось…", "Я пришла к поэту в гости…", "Заплаканная осень, как вдова…". В 1963 году большую подборку ахматовских стихов записала группа работников Литературного музея, среди которых были И.М. Эйхенгольц и Т.Н. Конопацкая. Примерно тогда же М.В. Толмачев сделал запись, на основе которой позже составил небольшую пластинку стихотворений Ахматовой Не только ее стихи, но и прозу, беседы зафиксировал на пленке историк и переводчик И.Д. Рожанский.
Записывали Ахматову и в Италии в 1964 году, а в следующем году - в Англии и во Франции. Пока мне удалось получить лишь английскую фонограмму со стихотворением "Лондонцам" и отрывком из "Поэмы без героя".
Не хватает в коллекции Литературного музея и записей, сделанных журналистом Евгением Синицыным для радиостанции "Юность"; возможны новые находки в республиканских, областных радиокомитетах. Полагаю, что и в частных московских и ленинградских собраниях найдутся пока еще не известные нам магнитофонные пленки. Но уже сейчас фонд записей стихов, поэм, мемуаров и разговоров Анны Ахматовой, собранных в Литературном музее, достигает, как упоминалось выше, восьми часов звучания и дает достаточно полное представление почти обо всех сторонах ее творчества.
Думаю, что такая полнота и представительность ахматовского фонда во многом определяются самим ее отношением к звукозаписи - вдумчивым, серьезным и вместе с тем наивно-доверчивым. Ахматова, вероятно, лучше многих своих современников осознавала значение сохраненного голоса поэта для будущих читателей и слушателей. Поэтому, насколько я могу судить, она не только охотно выполняла пожелания своих немалочисленных (как теперь выясняется) "записывателей", но и достаточно твердо корректировала их замыслы, дополняла уже сделанные записи чтением тех своих вещей, без которых собрание звучащих произведений представлялось ей неполным. Так, например, несколько раз, в разных обстоятельствах прочитала Ахматова на магнитофон стихотворения "Наследница", "Тень", "Мелхола".
Вместе с тем, обращаясь к истории ахматовских звукозаписей, можно увидеть, как последовательно уклонялась она от чтения того, что было для ее творчества менее характерным или случайным.
Никому из журналистов так и не удалось, например, уговорить ее записать ан пленку такие стихотворения, как "В пионерлагере", "Приморский парк Победы", "Песня мира", "Поджигателям", "Севморпуть", "И в великой нашей отчизне…" и другие, написанные в начале 50-х годов под давлением внешних, очень тяжелых обстоятельств. Этих и им подобных стихов в авторском чтении мы не услышим никогда. Подчеркнуто негодующе отзывалась Ахматова и на попытки запечатлеть на пленке те стихи или беседы, которые она сама "для вечности" не предназначала. Среди ахматовских фонограмм, хранящихся в Литературном музее, лишь один раз зафиксировано чтение таких совсем ранних стихотворений, как "Читая Гамлета" (запись 1962 года) и "Любовь" (запись 1963 года). Объясняется это тем, что в последние годы жизни - а большинство записей было сделано именно тогда - Ахматова обычно вообще отклоняла просьбы прочитать ранние стихи.
Игн. Ивановский рассказывает в своих воспоминаниях ("Север". 1969. № 6) о том, как, не соглашаясь записать на его магнитофон стихотворение "Сжала руки под темной вуалью…", Анна Андреевна сказала: "Я забыла, как это произносится".
Думаю, что это была лишь вежливая форма отказа читать одно из тех знаменитых стихотворений, особое пристрастие к которым иных читателей вызывало у нее оттенок досады. Но иногда некоторым счастливцам удавалось ее уговорить, и стихотворение "Сжала руки под темной вуалью…" дошло до нас даже на двух пленках: одна была записана в Москве поэтом Сергеем Дрофенко, другая - радиожурналисткой Зоей Давыдовой в Ленинграде.
…Уже давно никто не носит вуаль, уже не все даже и знают, что это такое, а стихотворение продолжает жить, волновать, заставляет сопереживать героине, которая молит о сочувствии.
Сжала руки под темной вуалью...
"Отчего ты сегодня бледна?"
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна...
Андрей Платонов в рецензии на книгу Ахматовой 1940 года так писал о герое этого стихотворения: "Вопль любящей женщины заглушается пошлым бесчеловечием любимого; убивая, он заботится о ее здоровье: "не стой на ветру" (Платонов А. Размышления читателя. - М., 1970). Платонов писал дальше о том, что в стихотворении показан довольно распространенный тип мужчины, который испытывает сердце женщины своей "мужественной" беспощадностью, сохраняя при этом вежливую рассудочность.
Когда весной 1984 года в радиопередаче для школьников я напомнил эти слова Платонова, артистка Татьяна Доронина, читавшая в передаче стихи Ахматовой, с этой трактовкой не согласилась, и в эфире прозвучали его слова о том, что и герой тоже обижен, что, может быть, "это тот случай, когда виноваты оба".
Интересно, что такое понимание стихотворения, продиктованное художественной интуицией актрисы и ее женским чутьем, вполне не согласуется с литературоведческой точкой зрения. Как считает исследователь творчества Ахматовой А.А. Урбан, эту фразу "мог произнести и трагически несчастный, глубоко уязвленный, отчаявшийся человек".
И сам спор в эфире, и многочисленные письма школьников (и особенно школьниц), полученные в ответ на передачу, показывают, что даже ранние стихи Ахматовой при всей кажущейся их простоте не поддаются однозначному толкованию. И они вовсе не являются "лирическим дневником" автора, как нередко полагали наивные читатели (и это приводило иногда к забавным, а иногда к грустным недоразумениям).
Самую большую по времени звучания запись, посвященную раннему периоду жизни и творчества Ахматовой, посчастливилось сделать И.Д. Рожанскому в 1963 году. Пленка запечатлела воспоминания Анны Андреевны о встречах в 1911 году с Амедео Модильяни, тогда еще безвестным итальянским художником. Эти воспоминания были впоследствии опубликованы. Но звукозапись наряду с драгоценными приметами времени доносит до нас еще и интонации когда-то произнесенных фраз. Рассказывая, Ахматова передает некоторые фразы Модильяни по-французски, то есть так, как они звучали в устах художника.
Гораздо охотнее, чем ранние свои стихи, читала Ахматова лирику более поздних лет. Причем нередко записывала на магнитофон тот или иной цикл полностью. Правда, из цикла "Разрыв" иногда выбирала только одно стихотворение - "И как всегда бывает в дни разрыва…", но чаще читала все три.
Известно несколько пленок, сохранивших ее чтение циклов "Cinque" и "Полночные стихи". То, что Ахматова записала их целиком, понятно: эти стихотворения так тесно взаимосвязаны, что могут быть достаточно полно восприняты только в контексте всего цикла. Поэтому, на мой взгляд, неправомерны попытки включения в радиопередачи отдельных фрагментов этих записей: слишком многое теряют стихи ахматовских лирических циклов, вынутые из "естественной среды обитания".
Большое место в звуковом фонде Ахматовой занимает тема поэтического творчества. И для радиопередач, и на магнитофоны любителей были записаны стихотворения из цикла "Тайны ремесла". Их она включила в 1962 году и в первую свою грампластинку.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что, записывая на пленку стихи о поэзии, Ахматова почти непременно читала стихотворение "я над ними склонюсь, как над чашей…", обращенное к Осипу Мандельштаму, - поэту, которого она высоко чтила, человеку, с которым ее связывала многолетняя дружба. Обычно она читала сокращенный вариант, но однажды для записи, сделанной близким ей человеком, переводчицей и редактором Никой Николаевной Глен, прочитала его полностью (так, как оно печатается теперь), причем сразу после стихотворения "Привольем пахнет дикий мед…"
Эта последовательность (как все, что писала и делала Ахматова) далеко не случайна. Стихотворение "Привольем пахнет дикий мед…" было тесно связано в ее сознании с именем Мандельштама, в частности, и потому, что, как свидетельствует одна из помет, сохранившихся в ахматовском рукописном архиве, поэт считал его у Ахматовой лучшим.
Непосредственно же перед чтением это стихотворения в записи Н. Глен звучит название того цикла, который так до конца и не был дописан, но планы которого не раз встречаются в рукописях Ахматовой. Чаще всего она даже называла этот цикл "книга". Вот и пленка сохранила такие ее слова: "Из книги "Венок мертвым".
В единый цикл ("книгу") предполагалось объединить стихи памяти Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Бориса Пильняка, Осипа Мандельштама, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова. Стихотворение "Памяти Михаила Булгакова", насколько мне известно, никогда не записывалось. Но на этой пленке звучит (прочитанное, вероятно, по ассоциации с ним) стихотворение "Хозяйка", посвященное вдове Булгакова, - Елене Сергеевне. Внешним поводом к его написанию послужило то, что в эвакуации в Ташкенте Ахматова одно время жила в комнате, которую до нее занимала Е.С. Булгакова.
Как отмечал В.М. Жирмунский, у Ахматовой "было свое, "домашнее" восприятие Пушкина - не как поэта далекого прошлого, а как близкого ей человека…" Академик Жирмунский имеет в виду, в частности, стихотворение "Пушкин" ("Кто знает, что такое слава!.."),написанное в 1943 году и сохранившееся в звукозаписи 1962 года, сделанной ленинградским телевидением.
В еще большей степени "домашнее", интимное и очень пристрастное восприятие Пушкина как близкого человека, негодование против всех, кто не понимал его, ненависть и презрение к его врагам слышатся в бесценных звукозаписях, сделанных И.Д. Рожанским во время непринужденного разговора за чайным столом.
Так, например, об одном из портретов Дантеса 40-х годов, опубликованном в журнале "Простор", Ахматова тогда сказала: "Мы все отомщены одним вот этим рисунком. Это чудовище, мещанин, лавочник! Совершенно темная личность, проходимец. Ужас, что это. Я даже не знала, что он такой был!"
Сурово и далеко не всегда справедливо говорила Ахматова о жене поэта. Вот, например, какие ее слова записал магнитофон в тот вечер:
"Я просто не знаю ни одной фразы, которую могла бы сказать в ее защиту. Я не знаю такой фразы. Когда она уезжала, она сейчас же забывала его адрес. Непременно. Потом, конечно, она транжирила деньги безобразно. Жить в деревне было спасением: какой-то год, но что можно было сделать! Ни за что, ни на минуту оторвать ее нельзя было от этих балов. Мать была никакая. Конечно уж, танцевать, имея четырех маленьких детей!… Она ни одну ночь не сидела дома, только и было ей что танцевать. Зачем? А потом, само ее поведение… Все: "Ах, она была молодая!.." Да, она была молодая, пускай. Но потом она была дама зрелого возраста. Потом она была просто пятидесятилетняя. Но ведь она же от этого не поумнела!.."
- Анна Андреевна, а что она сказала Ланскому перед смертью?
- Это уже красота!.. Когда она помирала, - она умирала от воспаления легких…
- А Ланской ее пережил?
- Да. Еще как! В этом все и дело… Ну, собрались, как всегда тогда бывало, все дети и все это такое… Очень траурное, торжественное настроение. Она благословляла детей, что-то с ними говорила. Потом она сказала: "Пьер, с тобой я не прощаюсь, потому что ты не переживешь моей смерти и тоже умрешь". Старик жил четырнадцать лет! Какой запас пошлости должен быть, чтобы умирающая женщина… вместо того, чтобы сказать, что - живи для детей, они еще маленькие…"
Про отношение же к Пушкину той молодежи, которая окружала его и его жену в домах Карамзиных и Вяземских, Ахматова говорила, что они его стихи тогда не читали и не любили:
"Нам трудно себе представить, что для них это было совсем другое лицо. Не то, что для нас. <…> Им было двадцать два, двадцать три, двадцать четыре года всем, а ему в это время было тридцать шесть. А Наталья Николаевна была в их компании; она была одна из девочек, которые <эту компанию> составляли, и веселилась с ними… И вот он, скажем, выходил, у него был недовольный вид. Или они шумели и ему не давали работать - он выходил сердитый, недовольный. И он фигурирует во всем <этом> как недобрый, старый, скучный муж. Это Пушкин!"
Особое место наряду с именем Пушкина занимало в духовном мире Ахматовой имя Данте.
Осенью 1965 года она выступила на юбилейном вечере Данте в Большом театре. Фрагменты вечера передавались по радио, и звукозапись сохранилась. По-видимому, это было ее последнее публичное выступление.
"Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освященных тем же великим именем", - сказала тогда Ахматова и закончила выступление чтением стихотворения 1936 года "Данте" (Звукозапись этого вечера, хранящаяся в ЦГАЗ, позволяет исправить ошибку в публикациях этой речи: конечно, она произнесла "освященных", а не "освещенных", как написано у публикатора).
Особенно примечательным мне кажется то, что в кратком слове, произнесенном в столь торжественной обстановке, она сочна необходимым упомянуть о тех своих друзьях и современниках, для которых Данте всегда был "величайшим и недосягаемым учителем", - о Гумилеве и Мандельштаме. А ведь тогда ее оценки были еще далеко не общепризнанными. Желание воздать должное своим друзьям, замечательным художникам, не раз становилось сильнейшим творческим импульсом для Ахматовой.
Многие тени воскрешает ахматовская "Поэма без героя", которая, как уже упоминалось, тоже записана на пленку, и не один раз. Часть этих записей вошла в грампластинки уже давно. А недавно вышло отдельное звуковое издание этой поэмы в авторском чтении.
Примечательно, что один из фрагментов, долгое время отсутствовавший по цензурным условиям в печатном тексте поэмы, впервые был опубликован именно в пластинке Ахматовой ("гранд" 1968 года) и появился в журнале "Театр" как цитата из этой пластинки:
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
Ряд прозаических и стихотворных фрагментов, в том числе и тех, что были опубликованы лишь в последнее время, а также примечательные звуковые варианты некоторых строк можно найти на компакт-диске "Анна Ахматова читает "Поэму без героя". Этот диск, изданный очень небольшим пробным тиражом, предназначен для узкого круга специалистов: ведь "Поэма без героя" для восприятия на слух все-таки трудна. Я неоднократно в этом убеждался, предлагая слушателям вечеров, проводимых в Литературном музее, то один, то другой фрагмент ахматовской фонограммы. Пожалуй, легче всего воспринималась глава, посвященная Петербургу 1913 года.
Корней Иванович Чуковский в радиопередаче 1954 года говорил о ней так:
"Здесь почти все из того, что младшему поколению читателей может показаться непонятным и даже загадочным, для меня, как и для других стариков петербуржцев, не требует никаких комментариев. Когда, например, я читаю в поэме:
Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
я вспоминаю те большие костры, которые разводились тогда на площадях у театральных подъездов, чтобы кучера, дожидавшиеся своих именитых и сановных господ, не окоченели от стужи…"
Чуковский называет Ахматову мастером исторической живописи. Разумеется, это характеристика лишь одной стороны поэмы. Но именно той, которая, как показывает практика, сравнительно легко может быть уловлена радиослушателем. Например, ряд фрагментов из "Поэмы без героя" в чтении Ахматовой прозвучал в 1984 году по ленинградскому радио в таком контексте, что воспринимался прежде всего как слово о родном для поэта городе. И такое сужение поэтического смысла ахматовского произведения было в данном случае вполне оправданным.
Бездонные глубины поэмы, ее многозначность, зеркальность образов, многочисленные историко-литературные ассоциации и реминисценции - все это приводит даже весьма квалифицированных читателей и слушателей к самым разным, чуть ли не противоположным толкованиям. Среди особенно запомнившихся Ахматовой отзывов о поэме были такие, как "трагедия совести", утверждение, что она "сводит счеты с прошлым", что это "поэма, о которой мечтали символисты"… Возникающие тут вопросы слишком сложны для обсуждения в эфире. Поэтому и приходится смириться с тем, что некоторые отрывки авторского чтения, звучащие в передачах, давали слушателю возможность лишь самого первого приближения к образному миру поэмы.
Но и те стихи в чтении Ахматовой, которые кажутся простыми и ясными, порой выигрывают в эфире от краткого комментария, сопровождающего фонограмму. Поясняющее слово, если оно созвучно духу ахматовского творчества, помогает выявить глубину этих классически прозрачных строк и строф.
В качестве примера приведу здесь комментарий Александра Межирова к одной-единственной поэтической строчке. В телепередачу "Анна Ахматова" 1979 года была включена фонограмма авторского чтения стихотворения "Мне ни к чему одические рати…". Кончается оно, как известно, словами:
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
После того, как прозвучала запись, А. Межиров сказал:
"- …История этой строчки представляется мне многозначительной. В черновике она выглядела так:
На радость вам и на мученье мне.
Но исправлена была отнюдь не в угоду какому-то заведомому оптимизму. Здесь обнаруживается редкая черта, которая проходит через все творчество Ахматовой: воля к преодолению. Эта строка шире черновой: хотя содержит в себе и ее смысл, но уже в преображенном виде".
Стихи Анны Ахматовой сейчас много и часто издают. На этом фоне менее заметны издания пластинок и дисков с записями авторского чтения. Между тем, одна из пластинок переиздавалась уже восемь раз, что для литературной пластинки является своеобразным рекордом.
А первая - маленькая пластиночка со стихами из цикла "Тайны ремесла" - вышла еще при жизни Ахматовой, в 1962 году. Вторая, та, что выдержала восемь изданий, - была выпущена в 1968 году. В нее вошли стихи первой пластинки (кроме "Музы"), стихи военных лет, цикл "Cinque", часть цикла "Полночные стихи", фрагменты "Поэмы без героя".
Еще года через два появилась маленькая пластинка лирических стихотворений, также уже несколько раз переизданная.
Несколько изданий выдержала и последняя, четвертая пластинка "Анна Ахматова. Стихи и проза", вышедшая в 1984 году и составленная по звуковым материалам Ленинградского радио, Государственного литературного музея и частных коллекций. Вошли в нее и воспоминания о Модильяни и некоторые ранние стихи, записи которых до последнего времени были почти никому не известны (даже хорошо знающий ахматовское наследие Александр Межиров утверждал в телепередаче 1979 года, что в звукозаписях "остались только стихотворения позднего периода".
Изданы уже и записи авторского чтения "Реквиема", которые в фрагментах и полностью сохранились в нескольких звуковых собраниях - Н.Н. Брауна, Н.Н. Глен, И.М. Ивановского, О.А. Ладыженской, И.Д. Рожанского… Поэтому существует возможность услышать голос Анны Ахматовой, читающей весь этот необычайный, потрясающей поэтической силы цикл от начала до конца. И еще раз вспомнятся нам гордые, горькие и провидческие ахматовские строки:
…И все-таки узнают голос мой,
И все-таки ему опять поверят.
Кроме уже названных пластинок, отдельные стихи Ахматовой в авторском чтении представлены и на пластинках серий "Говорят писатели", "Только одно стихотворение", "Поэты читают свои стихи" и других. Со второй половины 60-х годов записи голоса Ахматовой издаются за рубежом.
Так, например, Би-би-си отпечатала пластинку, на которой Ахматова говорит на французском языке о "Поэме без героя", читает отрывок из нее и еще несколько стихотворений. Запись сделана летом 1965 года. Тогда же, как это стало известно, она по просьбе известного литературоведа и переводчика Питера Нормана прочитала "Реквием" (эта запись была издана на компакт-кассете).
Магнитофон для записи Питеру Норману одолжил известный в Англии литературный критик и автор радиобесед о русской литературе Виктор Франк.
В своих воспоминаниях он пишет о том, что, когда он привез магнитофон в номер Ахматовой, она спросила:
- А вы умеете с ним обращаться?
И пожаловалась на свое неумение ладить с техникой:
- Вы знаете, в 1927 году, я была еще молодая, поехала в Кисловодск. И там за мной ухаживали шикарные химики, академики какие-то. Так они говорили: "Ну, Анна Андреевна - человек серый. Она даже в бинокль смотреть боится - как бы он не взорвался…"
Возможно, Ахматова не собиралась записывать именно "Реквием". Она намеревалась, как об этом пишет В. Франк, заранее записать на пленку свое выступление. Один раз она уже так делала в Москве, когда в 1962 году предполагалось провести ее вечер в Литературном музее, а она не была уверена в том, что здоровье позволит ей в нем участвовать. И когда такой вечер состоялся (правда, не в Литературном музее, где проводить его сочли "нецелесообразным", а в Библиотеке-музее В.В. Маяковского), то Ахматова участвовала в нем только "голосом".
В Англии же надобность в подобной предварительной записи отпала. И, по-видимому, объясняется это не только тем, что здоровье Ахматову на этот раз не подвело. Прежде всего, дело, вероятно, в том, что здесь просто не оказалось достаточно большой аудитории, которая была бы готова слушать только голос.
…Мне довелось записывать на пленку многих литераторов. Вот уже сорок лет, как это несколько странное занятие является моей основной профессией. Но кажется, что с того памятного дня, когда я приехал с магнитофоном к Анне Андреевне Ахматовой, мне уже никогда не приходилось иметь дело с поэтом, который бы так ясно представлял себе, что читает стихи не только собеседнику, не только тому, кто сейчас сидит перед ним с микрофоном, и не только тому, кто, допустим, через неделю-другую будет слушать эту запись по радио или через год-другой - с пластинки, но читает для многих и многих будущих поколений. Чувство будущих читателей, будущих слушателей было у Ахматовой очень сильно.
http://www.akhmatova.org/articles/shilov.htm